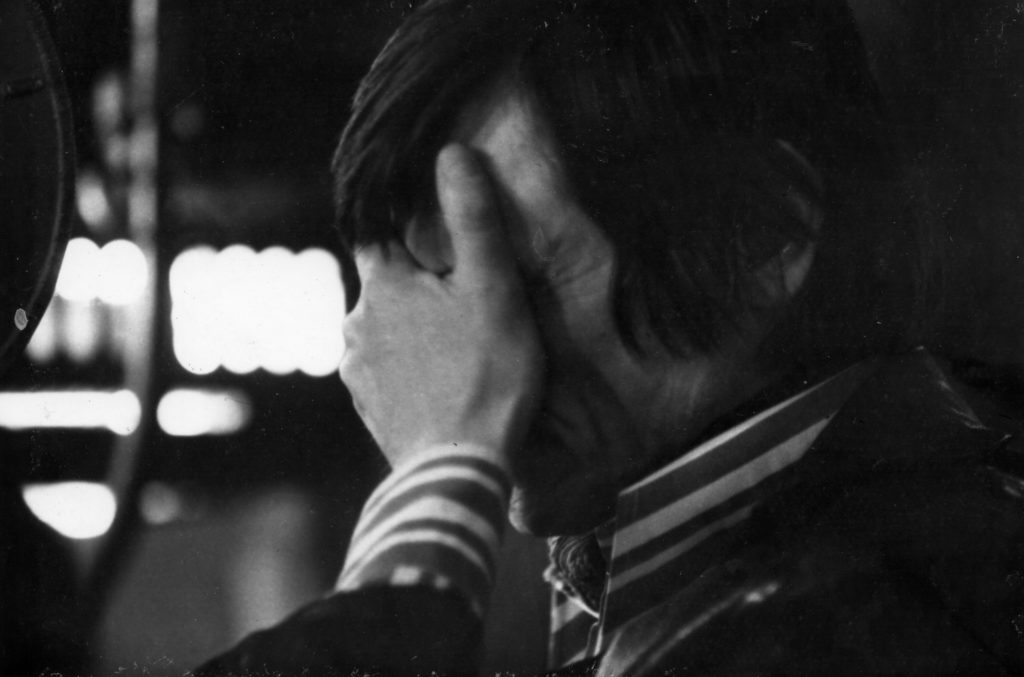Несмотря на то, что приказ об увольнении Тарковского датирован 28 мая 1983 года, подписан он был лишь два с лишним года спустя, 18 октября 1985 года. Так и значится в трудовой книжке: «Уволен по ст. 33 п. 4 КЗОТ за неявку на работу без уважительных причин с 28.05.83 г. Пр[иказ] 416-л. 18.10.85 г.»1.
Александр Гордон размышлял: «Что скрывается за двумя датами? 4 марта 1982 г. Андрей уехал в Италию снимать “Ностальгию” с разрешения властей, но уже через год и два месяца на студии был заготовлен приказ о его увольнении. Приказ не подписан. <…> 10 июля 1984 года в Милане на пресс-конференции Тарковский объявляет о том, что остается на Западе <…> Вот тут логично подписание приказа от 18.10.1985»2.
Изменение статуса Тарковского с режиссера-постановщика высшей категории на уволенного «за неявку на работу» сопровождалось еще одним символическим жестомКомментарий Д.А. Салынского: «Когда Тарковский получил главный приз Венецианского фестиваля 1962 года за “Иваново детство”, он получил еще одну важную награду — кадр из “Иванова детства” был вывешен в центральном вестибюле “Мосфильма” на фотостенде. Это было высшее признание студией класса режиссера. <…> Фотография Николая Бурляева из “Иванова детства” — крупный план светловолосого мальчика с острым лицом и цепким взглядом, смягченным сновидениями о довоенном детстве. <…> С 1962 года увеличенная фотография этого кадра висела на почетном месте до появления пресловутого приказа об увольнении Тарковского. Тогда на ее месте появился кадр из комедии “Девчата” с лицом Надежды Румянцевой. Лукавая и жизнерадостная героиня, высунув язык, с аппетитом уплетает булку, щедро облитую вареньем. Трагедия сменилась комедией. А точнее, фарсом. Несколько лет простая советская девушка, работавшая в таежной бригаде, ела булку с вареньем — награду за тяжкий труд лесорубов. Но наступила перестройка. Тарковского реабилитировали, и кадр из “Иванова детства” вернули на прежнее место»3.
Шло и идет много споров о том, как к Тарковскому относились на «Мосфильме», например, о том, что ему позволялось или не позволялось делать по сравнению с коллегами. Александр Гордон противопоставлял Тарковского студии и другим ее обитателям еще в контексте 1960-х годов: «“Мосфильм” в 60-е годы… Пять тысяч штатных сотрудников, куча нештатных, гудящий улей, сгусток энергий. Здесь свои знаменитости, для них — все почести и награды и даже похороны по высшему разряду. Здесь одерживаются победы и терпят поражения, знакомятся, влюбляются, уводят мужей у жен и наоборот. Активная общественная, партийная жизнь тесно переплетена с интригами и сплетнями, нацеленными на получение почетных званий, внеочередных квартир, дачных участков и машин. Самые лучшие козыри — верность партии, преданность начальству и карьерным интересам. Самый худший козырь — неподкупный и непокорный талант.
Но именно на “Мосфильме” Тарковский снял свои шедевры, создал свою уникальную образную систему и киноязык»4.
Считается, что Тарковский отказывался играть по правилам игры, стенограммы мосфильмовских заседаний сохранили многочисленные обиженные реплики старших коллег о его излишней резкости и нетерпимости. В 1967 году, когда от Тарковского требовали все новых и новых поправок к «Андрею Рублеву», и у него произошел нервный срыв, на заседании Бюро Художественного совета объединения коллеги режиссера даже вступили в спор с директором студии Владимиром Суриным:
«A.Г. ХМЕЛИК: Мы упрекаем его, что он нехорошо себя ведет, что он никуда не появляется, не отвечает и т.д. Тарковский вел себя идеальнейшим образом в течение довольно долгого времени. Он являлся куда угодно, прошел десятки кругов. Его буквально уходили, так что пришлось положить в больницу. Человеку 34 года, а он — развалина. Возможно это? По-моему, тоже невозможно.
B.И. СУРИН: Я больше всего боюсь демагогии, когда начинаются разговоры, что “уходили, положили в больницу” и т.д.
А.Г. ХМЕЛИК: Это не демагогия. Где мы будем, если с Тарковским что-то случится? Надо говорить прямо и без обиняков. Не нужно прямой разговор называть демагогией.
М.И. РОММ: Он действительно очень ранимый человек, и картина эта была сделана на пределе его сил.
B.Н. СУРИН: Я вам должен сказать: что касается студии и А.В. Романова — мы были чрезвычайно терпеливы. Другое дело, что положение с картиной очень сложное. Но что касается такта, терпения, уважения к Тарковскому — я не могу сказать, что были нарушены какие-то нормы, и не могу согласиться с Хмеликом, что к Тарковскому было допущено хамское отношение»5.
И все же, как вспоминал Валентин Виноградов, одногруппник Тарковского, стратегия Тарковского в советском кинопроизводстве оттепели, сменявшейся застоем, все же была не самой взрывной. Картины Виноградова в 1960—70-е годы не выпускали в широкий прокат, перемонтировали чужими руками и даже смывали, а последний свой фильм он снял в 1981 году, ровно за 30 лет до смерти: «Не шел я в ноздрю с начальством. Я человек увлекающийся. Я, когда начинал работать, уже о начальстве не думал. Просто хотел осуществить замысел. А все остальное мне мешало. Это мое несчастье. У меня ни одного живого фильма не осталось… Вообще я себя не так вел. Они говорят: “Делай поправки!”. А я — “Нет, не буду”. Взрывался — не так, как Тарковский. Тому скажут: “Делай поправки”, — а он: “Я подумаю”. Не взрывался… Хотя, какая разница, результат-то один и тот же»6.
Чтобы работать на «Мосфильме», надо было знать принятые правила игры и уметь в нее играть. И Тарковский выучил эти правила хорошо. Когда в начале 1970-х годов Акира Куросава встретил Тарковского на «Мосфильме» (русский режиссер работал на «Сталкере», японский только приехал договариваться о съемках «Дерсу Узала»), их мнения о крупнейшей студии Советского Союза и ее возможностях разошлись диаметрально. Спустя несколько лет Курсова вспоминал: «Я впервые встретился с Тарковским во время моего первого визита в Советский Союз — на приеме, устроенном на киностудии “Мосфильм”.
Он был невысок ростом, худощав и казался немного хрупким, очень умным и исключительно проницательным, чем-то напомнил мне [композитора] Тору Такэмицу.
В тот раз со словами: “Мне надо работать”, — он ушел раньше. Вскоре после этого донесся звук взрыва, от которого задрожали оконные стекла в ресторане.
Увидев выражение удивления на моем лице, директор “Мосфильма” со смехом сказал:
— Не бойтесь, это не война. Это Тарковский запустил ракету. Впрочем, для меня эта работа Тарковского хуже войны.
В то время Тарковский снимал “Солярис”. После обеда я осмотрел съемочный павильон этого фильма.
Действительно, в углу павильона, оформленного как космическая станция, валялась обуглившаяся ракета. Я не знаю, как сняли сцену запуска ракеты в павильоне, но, во всяком случае, эта космическая станция была удивительно дорогая и тщательно выполненная.
Она была сделана из толстого дюралюминия. На космической станции, холодно блестевшей серебром, стояли в ряд контрольно-измерительные приборы, мигавшие красными, синими и зелеными лампочками. В верхней части коридоров космической станции были проложены два дюралюминиевых рельса, на которых с помощью маленьких колес крепились кинокамеры, что позволяло свободно перемещать их по всей космической станции.
Тарковский показывал мне этот павильон, с сияющим лицом рассказывая о нем так, как мальчик с гордостью показывает свою коробку с игрушками.
Сопровождающий меня Сергей Бондарчук спросил о расходах на строительство этого павильона и, услышав ответ Тарковского, широко раскрыл глаза от удивления. Сумма была настолько огромной, что удивила даже Бондарчука, снявшего “Войну и мир”. Если пересчитать на японскую валюту, расходы составили около 600 миллионов иен. Я понял, почему директор «Мосфильма» сказал: “Для меня это хуже войны”»7.
Тарковский записал в дневнике 30 декабря 1973 года, когда «Солярис» уже давно вышел на киноэкраны: «Виделся на студии с Куросавой. Обедали вместе. Он в тяжелом положении: ему не дают “Кодака” и уверяют, что наша пленка прекрасна. Подсовывают Толю Кузнецова. Группа у него ужасная. Стукачи и кретины. Надо его как-то предупредить о том, что его все обманывают»8.
Негативное отношение к коллегам не было для Тарковского чем-то необычным; к этому времени он судил советскую кинематографию по иным законам. Александр Гордон так передавал их разговор 1974 года, когда Тарковский после помещения Сергея Параджанова в колонию писал ему письмо:
«— Ну, кто, кроме Параджанова, в нашем кино хорошие режиссеры?
— А разве они есть? — иронически спрашивает Андрей. Он закончил с письмом и принялся тщательно подстригать ногти.
— Конечно, — говорю, — как же нет!
— Ну, назови! — говорит он, не прерывая своего любимого занятия.
— Хуциев Марлен — замечательный режиссер.
Андрей молчит.
— Кончаловский, — продолжаю. Я уж сознательно не упоминаю режиссеров старшего поколения, во избежание напрасного спора: он их всех давно списал в архив.
Молчит. Тщательно рассматривает ногти.
— Ладно,— говорю,— а Данелия?
На Данелия он все-таки среагировал, как-то дернулся лицом и тихо сказал:
— Ну-у, Данелия, да.
Я перечислял: Шепитько, Климов, Муратова, Панфилов….
— Панфилов — хороший, очень хороший режиссер. Но… какой ужасный он снял фильм “Прошу слова”! Ужасный!
У Андрея было два ходовых выражения: гениально и ужасно.
— Или, может быть, ты назовешь еще Бондарчука? Тоже хороший режиссер?
Он какое-то время помолчал, но потом сам вернулся к теме.
— Конечно, хорошие режиссеры есть — Иоселиани, Параджанов, и те, о которых ты говоришь, Панфилов, если хочешь, и, наверное, другие. Уверяю тебя, их не очень много — задумчиво продолжал он. — Но я говорю о режиссерах не просто хороших, а о профессионалах, которым дадут снимать фильмы на Западе. Это я и Андрон Кончаловский, а больше нет никого»9. К моменту увольнения Тарковского с «Мосфильма» его уверенное предсказание из 1974 года сбылось.