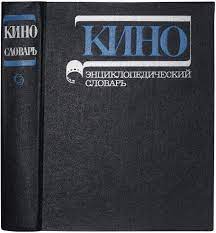Вскоре после приезда в Рим в начале марта 1982 года Тарковский узнал, что через пару месяцев на Каннском кинофестивале «будет присуждение каких-то очень почетных премий лучшим режиссерам мира. И я, будто бы, в их числе»1. Это было особенно лестно потому, что сначала Тарковскому пришла информация, что награжденных будет всего пятеро.
На встрече с директором фестиваля Жилем Жакобом дома у сценариста Тонино Гуэрры вскоре выяснилось, что, «во-первых, <…> в Каннах в связи с 35-летием фестиваля двенадцати (а не пяти) лучшим режиссерам мира будут вручены особые почетные награды или дипломы что ли. Я — один из них, и меня спросили, могу ли я приехать в Канны на это торжественное вручение. Я ответил, что да, но что прошу их, по возможности, задержать известие о моем награждении»2. Во-вторых, Тарковскому предложили место в жюри, но он уже пообещал свое участие в жюри Венецианского кинофестиваля этого года. Легче Тарковскому было ответить обещанием на третий пункт повестки Жакоба, который касался более отдаленного будущего: «Они просили “Ностальгию” в Канны, на фестиваль. Мы с Тонино обещали»3.
В ответ Тарковский попросил организовать встречу «с кем-нибудь из правительства Франции», чтобы попросить, с одной стороны, вмешаться в судьбу Сергея Параджанова, а с другой — поспособствовать каким-то образом тому, чтобы облегчить выезд из СССР младшего сына Тарковского Андрея.
Но зачем Тарковский просил задержать выход публичного сообщения о награждении? Вероятно, эта просьба проистекала из того же соображения, что и продолжение той же самой записи от 24 марта 1982 года, в котором пересказывается разговор с Жакобом:
«Вдруг я испугался. А если среди двенадцати лучших режиссеров в Канне окажется и Вайда? Будет большой скандал: или меня заставят протестовать и отказываться от премии. Или никуда не ездить (ни в какой Канн), опять-таки протестовать и отказываться. Надо срочно выяснить список награжденных и посоветоваться с Тонино.
25 марта. К вечеру, успокоившись, я решил, что надо все оставить как есть и не беспокоиться. Все обойдется. Даже если и Вайда, ну и что такого? В конце концов, ни конкурса, ни участия в фестивале — просто меня награждают этим званием одного из двенадцати лучших режиссеров мира, и никто мне не сможет помешать быть им. Единственное, что может быть, что мне не разрешат приехать в Канн. Это вполне возможно»4.

Чего же внезапно испугался Тарковский? «Даже если и Вайда, ну и что такого?» Вайдовский «Пепел и алмаз» в молодости произвел на него, как и на многих других советских кинематографистов, сильное впечатление в годы учебы на режиссерском факультете. Как он говорил в марте 1985 года в большом интервью польским литературоведам Ежи Иллгу и Леонарду Нойгеру как раз в ответ на вопрос о потенциальном влиянии на него польского кино: «Когда я учился во ВГИКе, был такой взлет польского кино, его расцвет, связанный с именами молодого Вайды, Анджея Мунка и других. Всемирно известная польская школа не могла не произвести на нас впечатления. Особенно отношением к фотографии, образным ви́дением. Был такой оператор, Вуйчик, работал с Вайдой и с Мунком. “Пепел и алмаз” был каким-то откровением. Это очень стимулировало, особенно отношение к правде жизни, поэтизация, основанная на фотографии кинематографической, на натурализме.
Это очень было важно в свое время. Потому что кино тогда было такое картонное, такое неестественное, такое фальшивое. Польские кинематографисты понимали, что имеют дело со специфическим материалом, и они его не разрушали. К тому времени кинематограф был весь заклеен фанерой, обоями, какой-то тканью, папье-маше, сделанными на киностудиях. А они вдруг обратились к чистой натуре — к грязи, к разрушенным стенам, к человеческим лицам актеров. Со всего был снят грим, и все зажило совершенно другим чувством»5.
В «Запечатленном времени» в 1967 году Тарковский подробно писал об операторе «Пепла и алмаза»: «Польский оператор Ежи Вуйчик говорит о том, что время в фильме связано с “температурой рассказа”, что чувство ритма невероятно много значит, и еще вот что: “фактуры органически связаны с ритмом, с временем, с наблюдением. Для меня лично очень важен момент наблюдения за изменениями материи во времени”. И надо сказать, что это умение передавать меняющуюся “патину” времени — одна из самых интересных сторон в работах Вуйчика (“Эроика”, “Пепел и алмаз”, “Мать Иоанна от ангелов”, “Самсон”)»6.
Позже Тарковский не раз встречался с Вайдой в Москве и в Польше, а в 1971 году даже передавал через его тогдашнюю жену актрису Беату Тышкевич сценарий «Ариэля» («Светлый ветер») для показа польскому киноначальству на предмет возможной постановки.
Но участие Вайды в движении Сопротивления и выход «Человека из железа» (1980), получившего главный приз и премию экуменического жюри на МКФ в Канне, сделали имя и фильмы Вайды табу в СССР. В октябрьском номере журнала «Искусство кино» за 1981 год появилась анонимная (то есть «редакционная») статья на 8 страниц мелким шрифтом: «Расшатать устои социализма в стране и забрызгать грязью самое слово социализм — вот тема, идейная сверхзадача, единственная цель “Человека из железа”»7.
После военного переворота в Польше в декабре 1981 года Вайда уехал во Францию. В это же время имена польских кинематографистов, связанных, как и Вайда, с движением Сопротивления, пытались исключить из нового «Кинословаря», готовившегося в СССР:
«В декабре 1983 года в редакцию, готовившую к изданию Энциклопедический кинословарь, пришел пакет из советского посольства в Варшаве, а в нем ответ на запрос редакции, могут ли присутствовать в книге кинематографисты, которым следует там присутствовать в силу значимости их вклада в национальное и мировое киноискусство. (Таков был порядок: все материалы по кино социалистических стран апробировались в отделах культуры наших посольств). Статьи об этих людях были написаны, прошли редакционную обработку и утверждение редколлегии, где что ни член, то должность, кресло, пост. Меня, автора “польского блока” (первоначально более семидесяти статей), познакомили с документом, состоявшим из двух частей. Один — реестр имен, о которых можно писать. Второй — листок, на котором значилось, что статьи о Занусси, Кавалеровиче, Вайде могут быть включены в книгу, если редакция находит это необходимым, но при том следует обязательно оговорить, что 1) Ежи Кавалерович в последних своих фильмах допускает сцены и эпизоды, которые способны возбудить в зрителях антирусские, антисоветские настроения; 2) Кшиштоф Занусси слишком часто работает на Западе, к тому же в его творчестве сказывается религиозное мировоззрение; 3) Анджей Вайда принимал активное участие в событиях 1980–1981 годов и допускал в своих картинах (например, в “Человеке из мрамора” и “Человеке из железа”) антисоциалистические выпады»8.
Те имена, которые предлагались к внесению в «Кинословарь», особых заслуг не имели или вообще были связаны скорее с театром или другими видами искусств. «Те же, без кого польское кино попросту немыслимо, оказались изъятыми. Одно объяснение лежало на поверхности: по-видимому, “изъятые” были активны в период “Солидарности” и после введения военного положения в декабре 1981 года»9.
Тарковский был почти уверен в том, что Каннский фестиваль включит своего недавнего лауреата Анджея Вайду в свой список «лучших мировых режиссеров» (что говорит и о признании Тарковским места польского режиссера в этом каноне), но одновременно опасался этого, потому что не хотел создать впечатление — для советского начальства — что он хоть как-то поддерживает Вайду или что хочет идти по его стопам. Ведь и без этого Тарковскому уже казалось, что в Италии за ним следят, а его жену не выпускали из Москвы из-за слухов о том, что режиссер хочет остаться за границей навсегда.
Он боялся, что даже нахождение его имени в одном списке с Вайдой — не говоря уже о нахождении рядом с ним на сцене — может негативно повлиять на решение о выпуске из СССР жены и сына. Этот страх заставлял Тарковского проявлять осторожность даже по поводам, напрямую не связанным с кино. В это же время он отказался написать предисловие к выходящему в Италии сборнику советской фантастики (которое у него просили с октября 1981 года), несмотря то, что оно выпускалось коммунистическим издательством, потому что в него была включена антиутопия Е. Замятина «Мы»: «Могу все себе здесь испортить одним неосторожным движением»10.
Больше всего в 1982 году он боялся прослыть диссидентом или невозвращенцем, но, как ему казалось, даже отказ от поездки в Канны мог быть истолкован — теперь уже в Европе — именно так. В конце апреля 1982 года Тарковский записал в дневнике, что, видимо, сможет поехать в Канны, поскольку Вайда все-таки не награжден, но за неделю до предполагаемой поездки по посольским каналам ему поступило указание из Госкино: «В связи с тем, что советские фильмы были отвергнуты Каннским фестивалем, мне “надо найти причину отказаться”»11.
Напрасно Тарковский убеждал работников советского посольства в Риме, что и в Италии, и во Франции все в курсе, что он не занят и не болен, что его отказу никто не поверит: «Они ответили, что неважно, что подумают, что не поверят. Я сказал, что важно, т. к. разразится огромный скандал, и я (а мне это надоело) снова окажусь в страдательном состоянии по отношению к сов. властям. Я не хочу, чтобы из меня делали диссидента. В газетах, конечно, будут писать, что я для сов. кино и сов. власти persona non grata, мне это не нравится»12.
В конечном итоге на Каннском кинофестивале 14 мая 1982 года назвали имена 13 режиссеров, но вышли на сцену не все награжденные этой почетной, но все же неофициальной наградой. Тарковского для награждения сфотографировали в Риме (для слайдов — «диафильмов», как он записал), и его голос звучал в Каннах по радиосвязи: «Разговаривал с актером Бриали (который представлял лауреатов публике) по радио и поблагодарил фестиваль за премию. Среди остальных награжденных был Бергман, Антониони, Тати, Лоузи, Рей, Куросава (которого не было), Янчо — всего тринадцать»13.
На следующий день он отметил в дневнике, что газеты комментировали его отсутствие как «запрет советскими властями»: «Я так и знал. Но большого скандала вроде нет»14.
При этом Тарковский продолжал следить за польскими событиями. Тогда же, 15 мая 1982 года, когда он пролистывал газеты в поисках реакции на свое отсутствие в Каннах, он смотрел телевизор: «В Польше снова беспорядки — видел по ТВ. В Кракове полиция избивала демонстрантов, разливали водой, стреляли. Жертвы. Кажется, что это серьезно»15.
Еще один вынужденный польский эмигрант, Кшиштоф Занусси, вспоминал: «Я помню наши встречи в Риме. Это было трудное время, в Польше ввели военное положение, и он все пытался дознаться, что же там, в Варшаве, случилось на самом деле… Я помню, именно тогда он сказал о капле польской крови, которая где-то там бродит в его генеалогии, чему он приписывал и свою непокорность, и то, что он никогда не умел вести себя дипломатически, поступать рассудительно, и то, что всегда давал волю своим чувствам самым открытым и резким образом, что принесло ему немало врагов и еще больше унижений…»16
Занусси и Вайда в конечном итоге попали в «Кинословарь», вышедший уже в 1986 году. Попал в него — после большой борьбы — и Тарковский, статья о котором оказалась еще короче, чем статьи об опальных польских режиссерах.