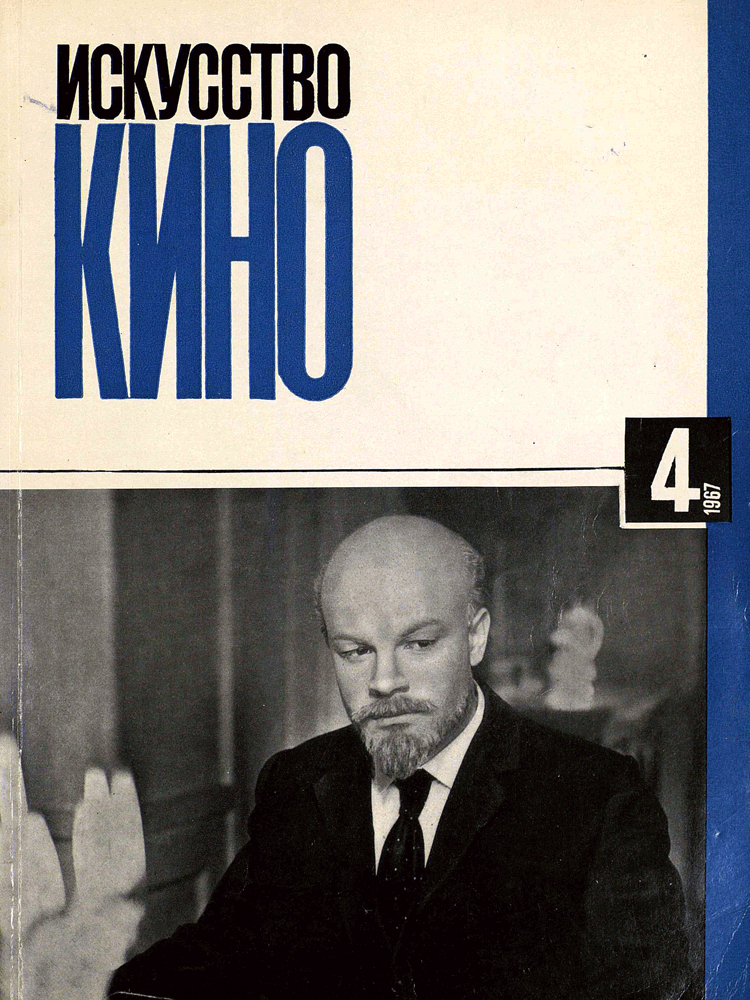Сначала статья Андрея Тарковского «Запечатленное время» стала доступна читателям апрельского номера журнала «Искусство кино». Однако это был лишь слегка сокращенный вариант статьиКомментарий Д.А. Салынского, которая должна была появиться в десятом, юбилейном выпуске теоретического сборника «Вестник киноискусства», который выпускал Институт истории искусств. Именно как своеобразная реклама этого сборника, как препринт, статья и подавалась.

Десятый выпуск «Вопросов киноискусства» был сдан в набор еще 2 декабря 1966 года и подписан в печать 13 апреля 1967 года — вероятно, тогда, когда апрельский номер «Искусства кино» с сокращенной версией текста Тарковского уже вышел. В сборнике Института истории искусства этот текст появлялся в окружении статей режиссеров Сергея Юткевича и Андраша Ковача (с ним Тарковский встретится летом 1983 года на фестивале в американском Теллурайде), статей киноведов Неи Зоркой о работе Юрия Тынянова в кино и Ирины Шиловой о функциях музыки в фильме. Семен Фрейлих писал о «диалектике жанра», а болгарин Неделчо Милев о «звукозрительном кинематографе» — влиянии монтажного кинематографа Сергея Эйзенштейна и теории Андре Базена о глубинно-мизансценном кинематографе на современное кино). В редакционную коллегию сборника входили Леонид Козлов, Нея Зоркая, Семен Фрейлих и Ростислав Юренев (который десятилетием ранее поспособствовал поступлению Тарковского во ВГИК).
Статья Тарковского шла третьей — после открывающей «официальной» от А. Караганова и «тематической» от Сергея Юткевича — подборки документов о недавней работе над фильмом «Ленин в Польше».
Статья открывалась очень осторожноКомментарий Д.А. Салынского: «Я не хотел бы никому навязывать свою точку зрения на кинематограф. Я не имею права на это; я рассчитываю на то, что у каждого, к кому я обращаюсь, а обращаюсь я к тем, кто знает и любит кино, есть собственные соображения, свои взгляды на принципы творчества и восприятия в этой области искусства»1. Следующие несколько страниц Тарковский приближается к самому основному, базовому вопросу, который мог бы быть поставлен практиком, теоретиком, философом: «Что же такое кино, какова его специфика, как я ее себе представляю и как я, исходя из нее, представляю себе кино, его возможности, его средства, его образы — не только в формальном отношении, но и, если угодно, в нравственном?»2. Режиссер вроде бы говорит о собственном опыте, но вскоре выдвигает мысль, которая оказалась не только относительно оригинальна, но и глубоко плодотворна для последующих поколений не только зрителей фильмов Тарковского, но и исследователей кино вообще: «…впервые в истории искусств, впервые в истории культуры человек нашел способ непосредственно запечатлеть время. И одновременно — возможность сколько угодно раз воспроизвести это время на экране, повторить его, вернуться к нему. <…> Время, запечатленное в своих фактических формах и проявлениях, — вот в чем заключается для меня главная идея кинематографа и киноискусства»3.

Считая, что зритель идет в кино «за временем», Тарковский дает новую мощную метафору кинотворца, которая даже стала названием англоязычной версии этого текста и аббревиатурой всей его теории — «ваяние из времени»/sculpting in timeКомментарий Д.А. Салынского: «Подобно тому, как скульптор берет глыбу мрамора и, внутренне чувствуя черты своей будущей вещи, убирает все лишнее, кинематографист из «глыбы времени», охватывающей огромную и нерасчлененную совокупность жизненных фактов, отсекает и отбрасывает все ненужное, оставляя лишь то, что должно стать элементом будущего фильма, то, что должно будет выясниться в качестве слагаемых кинематографического образа»4.
Леонид Козлов, опубликовавший в этом же выпуске статью о музыкально-тематическом строении «Ивана Грозного» С. Эйзенштейна, вспоминал о встрече с Тарковским в процессе подготовки сборника: «Был май 1966 года, шла работа над «Андреем Рублевым». <…> Мне, как члену редколлегии, было поручено отправиться к автору за одобрением окончательной редактуры текста.
Происходило это в его квартире, в новом доме напротив Курского вокзала. Точнее говоря, в кухне: типичной кухне шестидесятых годов, еще не вполне «обустроенной», никак не стилизованной, но уже обжитой и идеально приспособленной для непринужденного общения. Кроме хозяина, тут находился еще один человек — помнится, то был Александр Мишарин.

Мой визит явно прервал их беседу, хотя вовсе не отразился на гостеприимстве, мне оказанном. Хозяин не задал никакого регламента. Он присел на табуретку, внимательно и быстро прочел привезенную машинопись, выправил одну опечатку (вместо «беречь, как зеницу ока» — «беречь, как зеница око»), вписал несколько строк, относящихся к первому эпизоду «Андрея Рублева», — и поставил свою подпись на последней странице. Я обратил внимание на его почерк: четкий, крупноватый, с изящно связанными и в меру закругленными буквами. Красивый почерк, в котором было нечто от XIX века, — наверное, графолог усмотрел бы в этом беге линии выражение артистизма, интеллигентности и ясно устремленной воли.
Затем был сварен крепкий кофе и завязался разговор о будущей картине, который как-то сам собою переключился на стихи. Сначала Андрей читал стихотворения своего отца, и среди них знаменитое, уже тогда памятное мне в авторском чтении, «Свиданий наших каждое мгновенье…». Дочитав, он сказал с легкой улыбкой гордости: «Нет, каков у меня отец!». А потом взял со стола томик Мандельштама, аккуратно переплетенный машинописный томик половинного формата, и чтение продолжилось. Еще несколько вопросов и ответов, которые я не запомнил. Но мне сразу же врезался в память один стих Мандельштама — к нему я вернулся при прощании, когда Андрей провожал меня к лифту. Тут я сказал: “На случай, если вы возьметесь писать книгу, для нее есть хороший эпиграф: Что делать нам с избитостью дорог?”.
— Писать книгу? Посмотрим… — ответил он»5.

Пару лет спустя к Козлову обратятся из издательства «Искусство» с предложением стать соавтором в книге бесед Тарковского и «критика». Летом 1970 года Козлов и Тарковский будут вести подробные разговоры для этой не осуществившейся книги (заявка на нее была подана в ноябре 1969 года).
В эту книгу соавторы хотели в том числе включить и «Запечатленное время», развив идеи Тарковского дальше, в сторону звука и музыки в кино (в самом тексте он говорит в основном об изображении в кадре). Среди заметок Козлова есть на этот счет отдельный пункт: «Нужно посмотреть эту статью и решить: не понадобятся ли какие-либо уточнения или дополнения, или конкретные примеры — к постановке вопроса о времени в фильме.
С вопросом о времени и его организации прямо связан вопрос о музыке и музыкально-ритмическом начале в фильме.
Здесь намечаются три узла вопросов:
а) Принципиальное родство и близость кинематографа с музыкой. Как это надлежит понимать? В чем проявляется это родство? На каких практических, реальных примерах работы и восприятия АТ убеждался в этом родстве?
б) Ритм как выражение музыкального начала кино — и одновременно как выражение органичности жизни на экране. Ритм органический и неорганический, внешне навязанный. Проблема ритма на практических примерах. Ритм эпизода и общий ритм фильма.
в) Работа режиссера с музыкой как таковой. Чем определяется необходимость появления и присутствия музыки в фильме? Образцы использования музыки в мировом кино. Практика АТ: неудовлетворенность, о которой шла речь в одном из прошлых разговоров. Музыка единственно возможная или музыка заменимая, или музыка любая? Музыка специально написанная или музыка, взятая из существующей? Моцарт у Брессона. Бах, не раз использованный в самых различных фильмах»6.

Книга Козлова и Тарковского не осуществилась. Однако Козлов оказался одним из самых проницательных слушателей, зрителей и читателей режиссера: «Даже если встать на позиции чистой теории кино, то нельзя не видеть, что Тарковский задал нам для размышлений немало проблем, по-новому им поставленных, которые выглядят как «антиномии» или «оппозиции», как то: поэзия и проза, символика и непосредственный чувственный опыт, метафора и метонимия, дискретность мышления и непрерывность созерцания… Все это — проблемы, которые жили в его творческом, в его режиссерском сознании, он их ставил для себя и для нас, и он их по-своему разрешал сам, хотя подчас опять-таки неизбежно противоречил себе, говоря словами одно, а на экране осуществляя нечто иное»7.